Английское правописание и украинская латиница
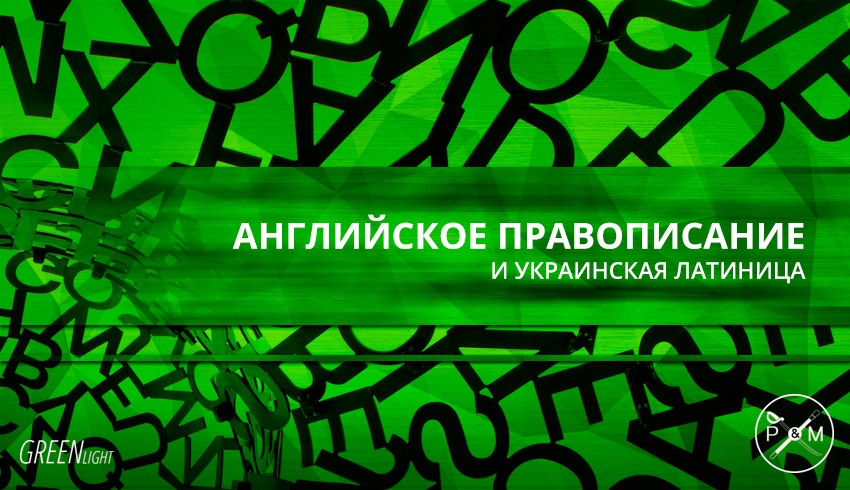
Вводить украинскую латиницу — своевременно или нет? Посмотрим, на какие грабли наткнулись другие народы, совершая подобные реформы.
Любой, кто изучает английский язык, с первых же дней изучения обращает внимание на сложные правила правописания. Причём на каждое правило находится своё исключение, а на исключение — ещё одно исключение.
В этом плане похож на английский язык и французский; правда, исключений там намного меньше, и правописание намного более предсказуемое, но вот простое ли оно? Едва ли. Как, интересно, человек, не знающий французского языка, прочитает фамилию Lemieux (Лемьё)?
Довольно заметная часть французов либо совсем не владеют английским языком, либо владеют на «туристском» уровне, то есть без тонкостей. Большая часть говорящих по-английски вообще не заморачивается тонкостями произношения на иностранных языках. Когда в американских фильмах герои, изящества ради, вворачивают французскую фразу, мне хочется заткнуть уши. При всём при этом в странах, пользующихся латинским алфавитом, принято писать иностранные имена так же, как в оригинале (если оригинальный язык тоже пользуется латинским шрифтом). Единственное известное мне исключение — Литва, где имена пишутся так, как произносятся. Ну да, приделывают к ним литовские падежные окончания, но всё равно, Džordžas — понятно, что Джордж, а вот George — уже не так очевидно.
Произношением иностранных имён англоговорящие не заморачиваются от слова совсем. Помню, разговаривал я с американкой (родом из наших краёв, так что беседа велась не по-английски), которая упомянула актрису Джульетту Биночи. Я заметил, что её зовут вообще-то Жюльетт Бинош, на что та возразила: какая разница, у нас произносят так.
Или вот, например, когда российская пропаганда одно время раскручивала тему «притеснения» русскоязычных в странах Балтии, то любила приводить пример жителя Латвии Шишкина, который вдруг стал Сискинс. Вопрос был неоднозначный. С одной стороны, в латышском алфавите для «с» и «ш» используются разные знаки, s/š. С другой, как только господин Шишкин (или Шишкиньш, если уж по-латышски) поедет в Европу или тем более в Штаты, он с большой вероятностью нарвётся на пограничника или таможенника, который знать не знает латышского алфавита — и прочитает именно «Сискинс».
Причём ладно там экзотическая даже для большинства европейцев Латвия — они беспардонно искажают даже фамилии, которые вроде бы у всех на слуху. К примеру, фамилию Milošević европейские медиа произносят как «Милосевик» или «Милозевиц». Даже немцы, в языке которых есть и «ш», и «ч», просто передаются они совершенно иначе (как sch и tsch соответственно).
У любого, кто изучал хотя бы один из «престижных» языков (английский, французский, немецкий, итальянский, и т.п. — я уж не говорю о польском с его замысловатыми комбинациями вроде szcz), рано или поздно возникал вопрос: а им самим такие сложности не надоели? Не возникало желания упростить, провести реформу — так, чтобы написание было более логичным и предсказуемым?
Возникало, разумеется.
Люди, которые обдумывали реформы английского, французского, немецкого правописания, меньше всего думали о том, чтобы облегчить изучение языка людям, которые живут где-то далеко. Речь шла прежде всего о том, как бы для своих издержки от нового написания слов не оказались бы дороже выгоды. Во всех случаях издержки получались непомерно дорогими.
Возьмём, к примеру, английский язык. Самая сильная сторона языка — она же проблема номер один: это международный язык. Он уже давно вышел за пределы Великобритании и является основным языком для нескольких десятков стран мира. То есть если одна страна поднимет инициативу реформы правописания — не факт, что её поддержат остальные.
Но допустим, это такая влиятельная страна, с голосом которой не могут не считаться. Великобритания или США. Нет, не тут-то было.
Ни в Великобритании, ни в США языковые вопросы вообще не регулируются на правительственном уровне. Правительство может решать, какие программы в школах поддерживать, но вот нормировать правописание — это в принципе не его дело. В Британии нормированием английского языка занимаются два конкурирующих центра, Оксфорд и Кембридж. В США есть крупные университеты и издательства, издающие словари, поддерживающие корпуса (базы данных) языка — но они не имеют права сказать «всё, с завтрашнего дня пишем иначе», потому что остальные им ответят «а кто вы такие, чтоб нам приказывать?»
Это не говоря уже о том, что английский язык в США вообще не является официальным — не закреплён за ним такой статус в Конституции или федеральном законе. Что, в принципе, не отменяет его положения основного языка де-факто. Даже в тех штатах, где в отдельных округах большинство составляют испаноязычные, попытки ввести двуязычное обучение в школах обществом отвергались: ещё чего! Кому надо, пускай за свои деньги открывает воскресные школы и там обучает второму, третьему, десятому языку — но только не за деньги налогоплательщиков.
Написанное выше не значит, однако, что английский язык навеки застыл в неизменном состоянии и менять его некому. В демократических странах существует понятие «общественная инициатива», которая может быть настолько сильной, чтобы, в том числе, и провести изменения в языке.
Буквально на заре возникновения США группа реформаторов, среди которых был Бенджамин Франклин, предложила упростить написание ряда широко используемых слов: theater вместо theatre, plow вместо plough и т.д. Эти изменения, наряду с некоторыми более мелкими и более поздними, заложили различие между американским и британским правописанием.
Впрочем, различие получилось такое… микроскопическое. Более того, большая часть англоязычных стран (включая такие крупные, как Канада) без зазрения совести пользуется «гибридным» правописанием, смешивая британские и американские нормы — и в школах за это оценки не снижают, и в языковых тестах за это баллы не теряют.
Если первая проблема английского языка состоит в его «международности», а вторая в «неправительственности», то третья в том, что англоязычные страны — это страны хорошо развитого частного бизнеса. А где частный бизнес — там и торговые марки. Вы ещё не уловили, к чему я?
Возьмём для примера условную историю выдуманного предпринимателя. Жил-был мистер, к примеру, Джон Крайтон (John Crichton). Раскрутил свой бизнес вместе с партнёром Мартином Гофом (Martin Gough) сначала в родном городе, а потом и в другие подался и оставил своим наследникам гордый бренд Crichton & Gough.
И тут вдруг возникает общественная инициатива: давайте сделаем так, чтобы «ай» всегда писалось как Y, а «ф» — как F, безо всяких там PH/GH. Инициатива охватывает широкие слои Британии и доходит до самого парламента.
Но британский парламент, как известно, отличается от российской Думы тем, что в нём принято дискутировать и выслушивать разные точки зрения. И депутат, представляющий интересы своих избирателей Гофа и Крайтона, на слушаниях о предстоящей реформе задаёт вопрос: почтенные, а кто будет оплачивать моим избирателям потери от того, что их бренд вдруг перестанет быть узнаваемым? Crichton & Gough — известная и раскрученная компания, а вот кто такие Cryton & Guf — никто не знает. Может, это где-то в далёкой Азии подделали их бренд — они ведь на такое способны, у них ведь уже есть и ABIBAG, и RIBOK.
В демократическом государстве не принято, чтобы государство вот просто так что-то у граждан отбирало. Граждане в таких случаях будут с государством судиться — и вполне способны вытрясти из него компенсацию.
Иски могут быть не только о потерянных средствах на раскручивание бренда. Будет немало случаев, когда ранее различные бренды вдруг станут одинаковыми — именно из-за упрощения орфографии. В англоязычном мире подобное нередко. Вот есть, скажем, имена Cathryn, Catherine, Kathryn — ясно, что все три разные девушки. А если упростят орфографию — как их отличить друг от друга?
Ладно, допустим, в результате широкого общественного консенсуса вопрос об издержках решён, и принято некое решение, так, чтобы «и нашим, и вашим». Ан нет — есть ещё одна проблема.
Английский — язык международный не только в том плане, что он имеет официальный статус во многих государствах. Это язык международного бизнеса, международной политики и науки. Английский язык долго за этот статус боролся и не намерен его просто так уступать и упускать. Орфографическая же реформа легко может выбить почву из-под его международного статуса. Ведь английский, благодаря своим многочисленным международным контактам, благодаря иммигрантам, содержит немалый пласт международной лексики. Такие слова, как economy, international, example и т.д. легко узнаются, по крайней мере по внешнему виду, и европейцами, и латиноамериканцами, и даже жителями бывшего СССР. А вот легко ли будет узнать, например, слова imoushn, revolushn вместо привычных emotion, revolution? Едва ли.
Вот если бы английский был языком маленькой замкнутой страны, тогда бы реформа правописания касалась бы только местных жителей. А тут получается, что сразу для большого числа эмигрантов язык станет трудноперевариваемым. И вместо того чтобы идти в мелкий бизнес, где можно обойтись плохим знанием языка, они будут замыкаться в этнических гетто, где языком не владеют, а на окружающих смотрят по-волчьи. Оно надо? Да и во всех остальных сферах свято место пустовать не будет: как только английский, хотя бы на время, станет малоудобным средством международной коммуникации, его место тут же без промедления займёт другой, более удобный язык. Например, испанский — международные слова там практически те же (emoción, revolución), однако же правописание и произношение — в разы легче, и говорят на нём сотни миллионов. Не даёт испанскому стать международным языком то, что большая часть испаноязычных стран — даже такие гиганты, как Мексика и Аргентина — страны «второй лиги», не слабаки, но и не чемпионы. Но если реформа английского правописания ударит по экономикам англоязычных стран, то у испаноязычных появится шанс.
Как видим, реформа правописания — дело весьма сложное, и главное, постоянно будет стоять вопрос «кто за это удовольствие заплатит?» По той же причине, скажем, американцы не спешат переходить на километры и килограммы у себя в стране. Для продажи за рубеж — так и быть, сделаем ярлыки в миллилитрах; но вот у себя в стране — кто заплатит, например, за переустановку сотен тысяч дорожных знаков, где ограничение скорости и расстояние указаны в милях?
Вот то ли дело в государствах с «вертикалью власти» — там никто не спрашивает, кто заплатит. Приказали — и пошла реформа. Впрочем, это только кажется, что диктаторы всесильны. Вот Мао Цзэдун начал было реформу китайских иероглифов, чтобы упростить их написание, чтобы меньше было чёрточек. И главное, поначалу реформа пошла на ура, тем более что значительную часть работы уже успели сделать японские оккупанты (упрощать иероглифы начали они, но не успели зайти так далеко, как китайцы). Когда прошёл первый этап реформы, захотели было китайские коммунисты упростить иероглифы ещё больше. Но тут народ начал повсеместно возмущаться: а старые документы мы как читать будем? И зачем мы потратили 10 лет на изучение новых иероглифов — чтобы опять переучиваться? В общем, остановилась реформа на полпути.
В Германии довольно долго готический шрифт считали «национальной скрепой», символом национальной идентичности и упорно отказывались его менять на обычную латиницу (даром что на неё перешли немецкоязычные в соседних Австрии и Швейцарии). Бисмарк демонстративно побрезговал принимать в подарок книги, напечатанные по-немецки латиницей: не читаю такое! Нацисты, придя к власти, вовсю начали «восстановление скреп», к которым был причислен и готический шрифт. Но стоило гитлеровцам захватить несколько стран — и тут же обнаружилось, что готическим шрифтом специально к приходу оккупантов там никто не запасался, пришлось сунуть в карман гордость и печатать документы и газеты обычной латиницей, а в 1941 году готический шрифт отменили и в самой Германии. Целесообразность оказалась куда важнее, чем волюнтаризм и «скрепы».
Если посмотреть на историю реформ правописания, особенно в последние 100-200 лет, то оказывается, что легче и быстрее всего они шли в тех случаях, когда происходил резкий и стремительный обвал, когда сразу много старого оказывалось ненужным и неактуальным — так, что потеря его не выглядела слишком большой. К примеру, в 1925 году в Турции Мустафа Кемаль ввёл латиницу (а вскоре по его примеру ввели латиницу и для тюркоязычных народов СССР). Если бы подобную реформу затеяли в Османской империи конца XIX века — автора закидали бы камнями как безбожника и отступника от ислама. Но Кемаль был президентом не Османской империи, включавшей большинство арабоязычных земель, а собственно Турции, где арабов почти не осталось. Прежний литературный язык Османской империи, включавший много арабских и персидских слов, был большинству простых турок непонятен, им и так владели немногие. Поэтому реформа Кемаля удалась.
А вот в СССР получилось хуже. Переход на латиницу происходил примерно в тех же условиях, что и у Кемаля — арабским письмом владели немногие. Довольно быстро стала развиваться новая местная литература. Но Сталин довольно быстро понял, что у тюркоязычных народов возникает альтернативная культурная реальность — с центром в Стамбуле, а не в Москве. В 1930-е годы волевым порядком тюркские народы перевели уже на кириллицу, что нанесло удар по их образованию и культуре, последствия которого они изживают до сих пор. К слову, не так давно в России татарам запретили иметь латиницу — мол, кириллица лучше передаёт ваши звуки, и не выпендривайтесь. Истинная же причина была та же, что и при Сталине — не допустить создания альтернативной культурной реальности, в которой татарский язык уже будет не столь зависимым от русского.
И вот сейчас, время от времени, я вижу в украинской прессе предложения перевести украинский язык на латиницу. Резон при этом предлагается самый благородный: вывести украинский язык из кремлёвского культурного пространства. На мой взгляд, сейчас для этого далеко не лучший момент, и вот почему.
Только недавно — буквально в последние 10 лет — начался быстрый рост книгоиздания на украинском языке. Но эта тенденция пока ещё довольно хрупкая, и сломать её легко. Переход на новую письменность нанесёт удар по издательствам, от которого они могут и не оправиться — множество старых книг останутся нераспроданными, а на раскрутку новых понадобится время — пока народ будет привыкать к новому письму, пройти могут десятилетия.
Азербайджанцы и молдоване перешли на латиницу потому, что она и в советское время была не слишком чужой — в Молдову шла литература из Румынии, азербайджанцы хорошо понимали близкородственный турецкий и могли, хотя бы и полулегально, читать турецкую литературу, сейчас многие из них смотрят турецкое телевидение.
Казалось бы, вот рядом Польша, Чехия, Словакия. Но факты таковы, что для большей части украинцев эти страны — пока экзотика. Думаю, пройдёт лет 10-20, может, 30, и благодаря безвизу во многих украинских семьях будут обсуждать реалии Польши или Хорватии так же, как сейчас, к сожалению, всё ещё обсуждают российские телешоу и фильмы (которые продолжают смотреть, несмотря на ограничения). Вот когда польские реалии станут «своими», тогда можно будет поговорить о введении украинской латиницы. А пока — «не на часі».
